Э.В. Ильенков
Мышление и язык у Гегеля
«Доклады Х Международного гегелевского конгресса»
(Москва, 26-31 августа 1974). Выпуск IV.
Москва, 1974, с. 69-81Очевидно, что поскольку мышление понимается Гегелем не как одна из субъективно-психических способностей человека, а как идеальная структура мироздания, оно реализовано и реализуется отнюдь не только в языке, и не только в языке обретает свое непосредственное — внешнее — существование.
Столь же очевидно, что когда речь идет о процессе самопознания, осуществляемом абсолютным мышлением в лице человека, именно язык оказывается той привилегированной формой внешнего проявления, в которой этот процесс и начинается, и заканчивается. Именно в языке мышление окончательно возвращается к самому себе из всех циклов своих отчуждений, вновь обретая тот свой первоначальный облик, который оно имело до своего грехопадения, до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа. Эмпирически это в-себе-и-для-себя существующее мышление предстает в образе «Науки логики», или, точнее, в образе читателя, адекватно понимающего это литературное произведение. Абсолютное знание открывается мышлению, которое тем самым становится абсолютным мышлением, как система значений слов, образующих в своей связи непосредственное выражение универсальной структуры мироздания, его идеальную схему.
Этот аспект гегелевской философии оказался весьма живучим; родственные ему мотивы очень нетрудно усмотреть в таких далеко расходящихся между собой в остальном концепциях, как экзистенциалистская «герменевтика», с одной стороны, и структурализм Леви-Стросса, с другой, полупоэтическая интуиция Гуссерля или педантически-формальный анализ Витгенштейна и его последователей — все они характеризуются стремлением выявить изначальные структуры мышления в языке и через язык, через то или иное [69] исследование вербальных экспликаций духовной деятельности, будь то «научные» системы или мифы, философские произведения или массивы «естественного языка».
Это обстоятельство и заставляет несколько более внимательно всмотреться в гегелевское понимание взаимоотношений между мышлением и языком, как в понимание, не утратившее за истекшие 150 лет своей теоретической актуальности.
Прежде всего Гегель нигде не изложил систематически своего понимания этой темы, и его концепцию приходится реконструировать, выявляя при этом некоторые прямо не эксплицированные предпосылки. Тем не менее картина получается достаточно однозначная. Несомненно, что язык интересует Гегеля не сам по себе, а прежде всего (и может быть, даже исключительно) как форма обнаружения мышления, или как мышление, еще не возвратившееся к себе из своих отчуждений, из своего инобытия. Но в этом отношении Гегель абсолютно прав — ведь он не лингвист, а Логик. А в логике язык иначе рассматривать и нельзя, не покидая почву логики.
Несомненно и то, что язык предполагается Гегелем гораздо чаще, нежели о нем говорится прямо, он образует ту незримую стихию, в которой разыгрывается история сознания и самосознания, и Логика начинается в той точке, где вся эта история уже «снята» в языке, представлена в нем, присвоена и в то же время отчуждена в его формах. Логика поэтому имеет своей непосредственной предпосылкой и материалом анализа не историю своего собственного воплощения, а высказанную историю, уже «оречевленную» деятельность разума, Мышления с большой буквы.
Это обстоятельство и создает основу для «герменевтической» интерпретации гегелевской диалектики, согласно которой не Мышление осознает себя в языке, а, наоборот, Язык обретает в Логике осознание своих абстрактных схем, [70] и Логика оказывается всего-навсего выражением одного из аспектов Языка, как изначальной и беспредпосылочной реальности, «действительности» духа. При такой интерпретации все логические категории, выстроенные Гегелем в систематизированный ряд, утрачивают само собой понятно, значение объективно-универсальных определений действительности, постигаемой духом, и толкуются исключительно как «значения слов», составляющих узловые пункты структуры языка — и только языка. Не «логические» категории тем самым «отлагаются» в структурах языка, в его грамматическом и семантическом строе, а, наоборот, формы языка обретают свое схоластическое выражение под условным (и путающим) названием «логических» форм.
Гегелевская диалектика и ассимилируется этим пониманием как извращенно-перевернутое изображение этого изначального, «подлинного» взаимоотношения между языком и «мышлением», «интеллектом», а язык становится последним, самым глубоким основанием всякого научно-теоретического изображения действительности, как естественно-природной, так и общественно-исторической.
В этом пункте экзистенциалистская философия прямо протягивает руку союза неопозитивистскому формализму.
И надо признать, что Гегель основание и поводы для такой интерпретации его диалектики действительно дает. Но тем более важно четко выявить в самом фундаменте гегелевского понимания взаимоотношений между языком и мышлением некоторые прямо не эксплицированные им самим аксиомы, — но не для того, чтобы их принять, а для того, чтобы подвергнуть их действительному критическому анализу и пересмотру.
Эта аксиома, достаточно четко прослеживаемая в тексте Иенской реальной философии», состоит в том, что язык (как речь, как высказывание) рассматривается как первая, и по существу и по времени, форма «наличного бытия» [71] («обнаружения») духа, его «логического строя». Применительно к земному воплощению абсолютного духа Гегель целиком принимает тезис «В начале было слово». Именно в слове и через слово дух пробуждается к сознательной жизни, полагая сам себя как «предмет», объективируя свою собственную творческую силу как «Namengebende Kraft», выступая как «царство имен», в котором затем обнаруживается «порядок». Этот «порядок» впоследствии и оказывается логическим порядком, т.е. закономерной связью имен, слов. Логический строй духа, таким образом, обнаруживается для самого духа прежде всего как грамматический строй языка, и ... «изучение грамматики ... составляет начало логического образования» (речи директора гимназии), а «это занятие можно считать изучением элементарной философии» (там же). Именно в виде «правил соединения слов» перед духом предстает логическая природа духа, всеобщее как таковое, как сила, которой подчиняется «особенное». Такое понимание отношения между логикой и грамматикой можно проследить во всех произведениях Гегеля — оно оставалось для него аксиомой до конца. «Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке» 1, — повторяет он в «Большой Логике» как истину, не нуждающуюся в каком-либо специальном доказательстве. И действительно, эта «истина» проходит, как сквозная нить, и через «Феноменологию духа», и через «Философию истории», и через «Философию права», и через «Логику» – язык везде образует стихию, в которой совершается история обретения духом самосознания, от первых его проблесков до завершенного самоотчета в Логике, в «понимающим прочтении» логического трактата.
Это так, и поэтому Гегеля очень нетрудно, не совершая никаких видимых насилий над текстами, истолковать как предтечу «герменевтики», что и проделывают, например, Г.Г. Гадамер и И. Симон. [72]
Однако такое толкование связано с весьма ощутимыми потерями в понимании подлинного Гегеля, с отсечением как раз тех моментов в его концепции, которые ведут, в перспективе, разумеется, к материализму, к материалистическому пониманию его диалектики. Всмотримся в его концепцию несколько внимательнее, насколько, разумеется, то позволяют рамки доклада.
Прежде всего от «герменевтической» интерпретации гегелевской логики ускользает то обстоятельство, что язык ни в коем случае не является для Гегеля единственной формой объективации мышления.
Речь (или деятельность в стихии языка) представляет собою лишь одну из форм внешнего проявления мышления с его логическим строем; другую, не менее (а в известном смысле и более) важную форму самоосуществления духа Гегель видит в деятельности человеческой души, созидающей «внешнюю», чувственно-предметную действительность человеческой культуры. «Рука и в особенности кисть руки человека ... есть нечто только ему свойственное, ни одно животное не имеет такого подвижного орудия деятельности, направленного вовне. Рука человека, это орудие орудий, способна служить выражением бесконечного множества проявлений воли» 2. «Наряду с органом речи рука больше, чем что бы то ни было, служит человеку для проявления и воплощения себя... О ней можно сказать, что она есть то, что человек делает, ибо в ней, как в деятельном органе своего самоосуществления, человек наличествует как одушевляющее начало, и так как он первоначально является своей собственной судьбой, то стало быть, рука выразит это “в себе”» 3. И выразит даже более адекватно, нежели язык (die Zunge) [74], нежели орган речи, поскольку о действительном мышлении человека гораздо вернее судить по его поступкам, нежели по его речам о них, по тому, что он делает, нежели по тому, что он говорит.
Это не мимоходом брошенное замечание, а принципиально важный момент всей гегелевской концепции мышления и логики, и показательно, что свой анализ форм «внешнего проявления» духа в мире Гегель завершает такой сентенцией:
«Человека в гораздо меньшей степени можно узнать по его внешнему облику, чем по его поступкам. Даже язык подвержен судьбе одинаково служить как сокрытию, так и обнаружению человеческих мыслей» 4.
Рука, таким образом, обнаруживает то, что скрывает язык, то, что язык не обнаруживает, или обнаруживает неадекватно. Потому-то практический акт, или мышление в форме воли, и входит в гегелевскую Логику не только как «внешняя реализация» ранее совершившегося теоретического акта духа, но и как своеобразный фильтр, сквозь который просачивается лишь то, что было в этом духе объективного, а чисто-субъективное в нем застревает, не проходит сквозь него.
Поэтому-то действительным мышлением Гегель и называет лишь ту деятельность духа, которая осуществляется не только в словах, но и в делах человеческих. Поэтому-то логическая форма и выражает у него суть речи и дела, не только «Sage», но и «Sache», составляя общую схему протекания деятельности человека вообще, в каком бы материале та специально ни воплощалась, будь то слово, будь то вещи в их грубо-материальном смысле.
В этом — несомненная материалистическая тенденция [74] диалектической концепции Гегеля, благодаря наличию которой гегелевская диалектика и смогла послужить непосредственной отправной точкой развития диалектики Маркса и Энгельса.
Согласно Гегелю, «вещи» через целенаправленную деятельность человека включаются в логический процесс, и чувственно-предметная деятельность, т.е. практика, рассматривается тут как фаза протекания логического процесса. Притом та фаза его протекания, которая «снимает» односторонность чисто-теоретического отношения человека к миру и даже оказывается критерием теоретической истины.
Таким образом, совокупное развитие духа и истолковывается Гегелем как возвратно-поступательный процесс, как серия циклов, каждый из которых замыкается на себя именно в той точке, в которой он берет начало из предыдущего цикла, и одновременно полагает начало циклу следующему (известный гегелевский образ бесконечности – спираль, круг кругов).
Цикл чисто-теоретического движения, завершив свой оборот внутри себя, в точке возврата к своему началу открывает движение по следующему уже предметно-практическому циклу, а тот, завершившись, вновь приводит к той же точке. Картина получается такая: [75]
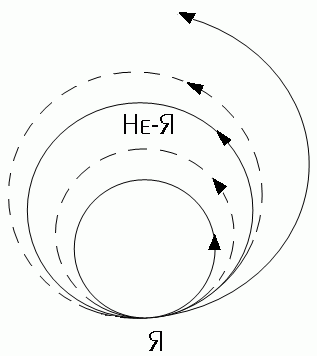
Это чередование «теоретических» и «практических» акций духа, взаимно «снимающих» односторонность друг друга, и выступает непосредственно как чередование языковых и вещественных объективаций логической деятельности. Поэтому слова и дела, речи и поступки, вообще говоря, и сопоставимы, как две метаморфозы одного и того же, как два атрибута одной и той же субстанции.
Совершенно верно, «теоретическое» сознание, непосредственно объективирующее себя в слове, в гегелевской системе изображения духа выступает как первая и изначальная форма обнаружения абсолютной идеи, т.е. логически структурированного самосознания.
Орудие же труда — каменный топор, кресало или плуг, а затем и продукты, производимые с помощью этих орудий (хлеб, дом, храм и т.д. и т.п.) — в этом изображении оказывается второй, вторичной метаморфозой предметного бытия духа, уже до этого достаточно хорошо осознавшего себя в слове, уже «проговорившего» свое содержание.
Нам кажется, что именно эта ложная перевернутая последовательность и обязывает Гегеля (и одновременно позволяет ему это сделать) к принятию наиболее произвольной предпосылки всей его философии, к допущению «чистого духа», до поры до времени никак себя предметно не обнаруживающего. К допущению, из которого затем уже совершенно естественно разворачивается вся его абсолютно-идеалистическая концепция и истории человечества, и его мышления.
Именно потому, что язык (die Sprache) взят Гегелем за отправную точку истории земного воплощения идеи (т.е. мистифицированной им логической структуры человеческого самосознания), а чувственно-предметная деятельность общественного человека, мир вещей, созданных и воссоздаваемых трудом, истолкован как обусловленная языком форма «объективации» творческих потенций духа, в рамках гегелевской философии и невозможно поставить, а не только решить вопрос о возникновении человеческого [76] духа, человеческого мышления.
Вопрос с самого начала ставится не о возникновении, а лишь о пробуждении. В человеке «дух» не возникает, а лишь просыпается к сознанию, к осознанию того, что уже заранее в нем содержится как логический инстинкт, как бессознательное устремление, как интенция. Чувственно-предметная деятельность может лишь корректировать понимание тех логических схематизмов, в рамках которых была осуществлена чисто-теоретическая деятельность, т.е. деятельность в языке.
«Герменевтическая» интерпретация гегелевской философии, некритически принимающая эту исходную аксиому Гегеля, поэтому и не может выбраться из ряда теоретических тупиков в понимании природы человеческого мышления, и на самом деле лишь усугубляет мистицизм ортодоксально-гегельянского понимания проблемы, поскольку тщательно отсекает все тенденции, выводящие за пределы идеализма.
Представителя герменевтики кажется, что они нашли реалистический способ интерпретации гегелевской «абсолютной идеи», поскольку увидели ее реальный прообраз в такой культурно-исторической реалии, как «язык». Но на деле-то языку присвоены тут все мистические атрибуты гегелевского «бога», и язык благополучно превращен в мистически-непостижимую основу всего человеческого «бытия», всей человеческой истории.
Но одновременно представители герменевтики очередной раз обнаружили ахиллесову пяту всякого идеализма, его неумение и нежелание ясно поставить вопрос о тайне возникновения человеческого духа, реальной способности человека мыслить.
Лишь материалистическая интерпретация гениальных завоеваний гегелевской диалектики позволила остро и четко сформулировать этот вопрос, как впервые возникает? – не «просыпается», а именно впервые возникает мышление, способность мыслить, а затем и решить этот вопрос. Вопрос, [77] от которого любая разновидность идеализма тем или иным способом уходит, старается уйти, постулировав «мышление» как «беспредпосылочную» реальность, как деятельность, порождающую из самой себя все формы своего внешнего обнаружения, в том числе и язык.
Особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что марксовская интерпретация гегелевской Логики бережно сохранила в своем составе все действительно реалистические тенденции ее, отсекая лишь явно мистические положения.
Схема Гегеля была решительно перевернута Марксом в самой ее основе. Если для Гегеля (и для некритически примкнувшей к нему хайдеггеровской «герменевтики») первой формой наличного бытия духа является язык (речь), а орудие преобразования внешней природы, орудие труда «выводится» из деятельности уже осознавшего себя в языке «духа», то у Маркса последовательность оказывается как раз обратной. Материнским лоном «духа» и «мышления» выступает тут материальная чувственно-предметная деятельность человека. Деятельность, обретающая свое «первое» наличное бытие в орудии труда и продукте, с помощью этого орудия произведенного — в сохе и хлебе, а не в слове «соха» и «хлеб». Не в артикулированных колебаниях воздуха, а в изменении куда более неподатливого материала — дерева, бронзы, земли, камня.
Мышление, как специфически-человеческая способность, и возникает впервые (а вовсе не «проявляется», вовсе не «выражает себя») именно как деятельная функция, как способ действия вполне материального органа. И этим «органом» является система мозг–рука. А не «мозг–язык». (Das Hirn — die Hand, nicht “das Hirn – die Zunge”.)
В деятельности руки, сообразующейся с предметом своей работы, мышление как раз и имеет свою непосредственную действительность, а не «внешнюю форму выражения» этой действительности. [78]
Ибо, как хорошо понимал уже Гегель, «...внутреннее, поскольку оно есть в органе, есть сама деятельность» (das Innere, insofern es in dem Organe ist, ist es die Tätigkeit selbst), и потому «работающая рука ... дает ... не только выражение внутреннего, но и его само непосредственно» (die arbeitende Hand ... gibt ... nicht nur einen Ausdruck des Innern, sondern es selbst unmittelbar) 5.
Мышление в его изначально-фундаментальной и простой форме и есть не что иное, как деятельность в предмете и с предметом. А не деятельность в слове и со словом, которая может и должна рассматриваться уже как выражение этой фундаментальной деятельности, «Мышления», а не как эта деятельность сама, не в качестве мышления как такового.
Слово действительно рождается как «посредник», как внешнее средство осуществления мышления и как его продукт, как продукт рассудка, как нечто производное от него. Слово (язык) поэтому предполагает мышление, но никак не предполагается им, хотя, разумеется, высшие, развитые формы мышления всегда уже опосредуются словом — не могут быть поняты без его опосредствования.
Здесь получается та же картина, что и в развитии товарных отношений, в развитии формы стоимости; деньги действительно рождаются как посредник «кругооборотов» прямого товарного обмена, нов итоге превращаются из «посредника» в своего рода «энтелехию», в цель и начала циклически-возвращающегося к себе процесса, а далее и в «самовозрастающую субстанцию-субъект» 6, создавая систему иллюзий товарного фетишизма. Почвой для иллюзий и тут оказывается циклический характер движения. Цикл Д — Т — Д — Т... на поверхности развитого товарно-денежного обращения воспринимается скорее как ряд циклов, каждый раз начинающихся с Денег и в Деньги же возвращающихся (Д — Т — Д*). Товарное тело тут начинает выглядеть как мимолетная [79] метаморфоза Денег — капитала в денежной форме.
То же самое происходит и со Словом в спиралях развития человеческой деятельности. Знание, в его словесно зафиксированной форме составляющее как бы «постоянный капитал», начинает представляться и «началом» и «концом» всего процесса обмена веществ между человеком и природой, а непосредственный процесс труда («работа руки») — лишь мимолетной метаморфозой («воплощением» или «отчуждением») Слова.
В итоге именно орган работы теоретика (язык — die Zunge) и выступает как «господин», управляющий деятельностью руки, своего «раба», в то время как генетически и по существу дело обстоит как раз наоборот.
Понимание этого обстоятельства было добыто для человечества именно Марксом, и именно в ходе критической переработки гегелевской схемы, представившей перевернутую последовательность двух «форм выражения мышления» (слóва и дéла), как «естественную». Маркс тем самым положил конец иллюзиям лингвистического фетишизма — подобно тому, как в области политэкономии он разоблачил фетишизм товарный.
Человеческое мышление рождается (а не просыпается) в горниле предметно-практической жизнедеятельности общественного человека, и в этом процессе возникает как его «посредник» — Слово, Язык.
Язык и остается, несмотря на все иллюзии, порождаемые особой ролью Слова, лишь посредником и внешней формой, за которой кроется на самом деле процесс реальной (материальной) жизнедеятельности общественного человека. И любой анализ «языка», не проникающий до этой его реальной основы, остается некритическим описанием феноменов, разыгрывающихся на лингвистической поверхности общественного сознания, лишь систематизированным выражением иллюзий.
И единственным путем освобождения от этих иллюзий [80] был и остается путь критически-материалистического преобразования гегелевской схемы развития мышления, проделанный Карлом Марксом.
Герменевтика же, как и неопозитивизм, в свете материалистического понимания Логики выглядит как совершенно некритическое воспроизведение «отчужденной» формы мышления, как мнимое преодоление отчуждения в рамках самого отчуждения. [81]