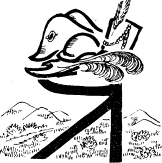Земные приключения прекрасного идеала
Когда над Европой, проспавшей полтора тысячелетия средневековых кошмаров, забрезжила прекрасная заря Возрождения, многое стало выглядеть в глазах людей по-иному. Земные порядки феодального общества, так же как и их отражение в небесах религии, перестали казаться людям чем-то само собой разумеющимся. И антифеодальные настроения раньше всего сказались в критике религии.
В свете ясного утреннего солнца люди совсем иначе восприняли распятый на деревянном сооружении восковой муляж «спасителя», пропахший пылью и ладаном. «Спаситель» теперь нравился им больше уже не на кресте Голгофы, а в нежных и заботливых руках его матери, в образе пухлого и здорового младенца, не подозревающего, какие муки готовит ему грядущее. В виде младенца, из которого также хорошо может вырасти и Геракл, и Давид, и новый Прометей... [58]
Глаза их снова увидели зарозовевший мрамор Парфенона, вечно юную красоту Афродиты и Аполлона, Геракла и Дискобола, Дианы-охотницы и могучего кузнеца Вулкана. Человек снова стал расправлять крылья своей мечты, чтобы взлететь к восходящему солнцу, чтобы парить над голубыми волнами Средиземного моря, вдыхать свежий ветер, чтобы наслаждаться могуществом своей мысли, своих рук, своей здоровой, не искалеченной постом и молитвой, плоти.
Юношески-вдохновенный век Возрождения передал эстафету мечты веку Просвещения — веку Декарта и Спинозы, Руссо и Вольтера — веку математически-строгого обоснования прекрасной мечты, и тот сформулировал четкие тезисы относительно будущего и человеческих идеалов. Против средневекового спиритуалистического идеала – бесплотного духа — он выдвинул свой, земной и полнокровный идеал.
– Нет бога, нет рая, нет ада! Есть Человек, дитя Природы, и есть Природа. За гробом, после смерти, для Человека вообще ничего нет. Поэтому идеал должен быть обретен здесь, на земле.
Наиболее последовательные мыслители сформулировали его так: земное, полнокровное жизнеизъявление каждого живого человека. Пусть каждый делает то, к чему он способен от природы, и наслаждается плодами своих деяний. Мать-Природа – единственная законодательница и авторитет для Человека, ее любимого сына, и от имени ее Человеку возвещает законы жизни только Наука, самосознательное и никаких других авторитетов не признающее Мышление, постигающее законы Природы, а не Откровение, вещающее с амвонов и со страниц «Священного писания». [59]
И если Идеал — не праздная мечта, не бессильное пожелание, то он должен выражать что-то реальное, ощутимое и земное. Что? Естественные, то есть присущие каждому человеку от рождения, потребности и желания здоровой нормальной плоти, — «природу человека».
Идеал выражает естественные потребности «природы человека», и потому на его стороне все могучие силы Матери-Природы. Изучайте Природу, изучайте Человека, и вы обретете познание того, чего она хочет, к чему она стремится, то есть нарисуете подлинный Идеал — идеал и Человека, и того общественного строя, который ему соответствует.
Таким ответом и удовлетворились наиболее последовательные мыслители – материалисты XVIII века — Ламетри, Гельвеций, Гольбах, Дидро. И ответ показался ясным для каждого их современника, придавленного «неестественной» тяжестью феодального Государства и Церкви. Именно ради неестественных и извращенных удовольствий монаршего двора и церковно-бюрократической клики у большинства наций отнимались самые естественные права и ценности — и хлеб, и свобода распоряжаться своими руками и своей головой, и свобода говорить то, что думаешь и почитаешь за правильное. Если бы только естественные права не попирались двором, бюрократией и церковью! Какой бы рай учредился на благодатной почве Франции!
И тогда отлился новый идеал в энергичную и всем понятную формулу, в боевой лозунг: «Свобода, Равенство, Братство». Пусть каждый Человек делает то, что хочет и может, к чему его определила Природа, лишь бы он не приносил несчастий своему собрату по роду человеческому, не ущемлял права [60] другого делать то же самое! Если этого нет, то оно должно быть!
И свершилось чудо. Загремели над землей Франции могучие раскаты Марсельезы, сокрушающие удары пушечных залпов, рухнули стены бесчисленных бастилий, разбежалось во все стороны стадо попов и бюрократов, а народ поднял к небу трехцветное знамя Свободы, Равенства и Братства.
Идеал — «должное» — оказался сильнее, чем «существующее», несмотря на то что «существующее» охранялось всей мощью государства и церкви, бастионами крепостей и канцелярий, штыками солдат и перьями ученых академиков, несмотря на то что оно было прочно опутано цепями тысяч тысячелетних привычек и традиций, освящалось традиционной церковной моралью, искусством и правом, установленными от имени бога.
Но очень скоро обнаружилось, что Идеал осуществляется на земле далеко не так просто и скоро, как думалось его авторам. События стали разворачиваться на неожиданных поворотах.
Пришлось задуматься над многими коварными вопросами. Почему Идеал Свободного от всех искусственных пут Человека, осознающего себя равноправным собратьям по роду, такой ясный и понятный для каждого, никак не удается реализовать среди живых людей до конца? Почему Идеал, такой гуманный и прекрасный, шествует по земле через горы трупов, окутанный пороховым дымом? И почему вчерашние единомышленники и братья по идеалу становятся вдруг смертельными врагами и отправляют друг друга под нож гильотины?
Многие удовлетворялись таким ответом: слишком сильно сопротивление сил старого мира, слишком глубоко испорчены люди тысячелетиями телесного [61] и духовного рабства, слишком сильна власть прошлого над их сознанием. Испорчены и заражены ими даже те, которые казались и самим себе и другим кристально-чистыми героями Свободы, Равенства и Братства — даже Дантон и Робеспьер, даже Сен-Жюст, «апостол добродетели»!
А события разворачивались чем дальше, тем коварнее и трагичнее.
«Короли, аристократы и тираны, каковы бы они ни были, являются рабами, восставшими против всего человечества — верховного владыки земного шара и против природы — законодательницы вселенной», — восклицал Робеспьер.
«Голову долой кровавому тирану Робеспьеру, врагу и извергу рода человеческого!» — завопили его противники, и голова скатилась в окровавленную корзину.
Трехцветное знамя Идеала вырвала из его рук Директория и тоже оказалась бессильной его удержать. Тогда его подхватил артиллерийский офицер Бонапарте. Высоко поднял он развевающееся Знамя и повел народ за собой в грохот и дым сражений... А в одно прекрасное утро люди с удивлением увидели, что под плащом революционного офицера прятался старый знакомый — монарх. Увидели, что, пройдя под барабанный бой полмира, они вернулись туда же, откуда вышли в 1789 году, увидели, что снова, как и прежде, окружают двор императора Наполеона Первого хищные чиновники-бюрократы, лживые попы и развратные дамы и что опять приходится отдавать им последний грош, последний кусок хлеба, последнего сына.
Трудящийся народ Франции чувствовал себя обманутым вдвойне. Год от года жирел и становился все прожорливее новый хозяин жизни — спекулянт, [62] банкир, промышленник-буржуа. Этот получил от революции и контрреволюции все, что ему было нужно — полную свободу действий. И умело использовал ее для того, чтобы перекроить жизнь страны по мерке своего идеала, своего бога — золота, чистогана, наживы за счет других.
Что же случилось? Неужели прекрасный Идеал Просвещения оказался лишь миражем, сказкой, неосуществимой на земле мечтой? Неужели жизнь, практика, действительность, «существующее» опять оказались сильнее Идеала? По-видимому, так.
И на почве этого разочарования, на почве чувства полного бессилия людей перед ими же самими созданным Миром, снова, как встарь, расцвели ядовитые цветы религии, снова загнусавили попы о несбыточности надежд на земное счастье.
У немногих хватило тогда интеллектуального и морального мужества, чтобы не пасть в раскаянии к подножию Креста, сохранить верность идеалам Просвещения.
Осыпаемые презрительными насмешками сытых обывателей, здравомыслящих рабов «существующего», жили и мыслили в эти годы Анри де Сен-Симон и Шарль Фурье. Оставаясь верными главным принципам мышления просветителей, эти упрямые и нетерпеливые люди старались найти и указать человечеству пути к прекрасному будущему.
Вывод, к которому они — наследники передовой философии Франции – пришли в результате анализа сложившейся ситуации, совпадал с решением практически-трезвого англичанина Роберта Оуэна. Если правы Разум и Наука и если Свобода и Равенство не пустые слова, то единственным спасением человечества от угрожающей ему духовной, моральной и физической деградации оказывается Социализм. [63]
Человечество поставлено историей перед жесткой и неумолимой альтернативой: либо Человек согласится на рабское служение Частной Собственности — этому новому бездушному богу и тогда будет обречен на гораздо более страшное одичание, чем средневековое, либо возьмется за ум и организует жизнь на совершенно новых принципах, действительно, а не на словах, организуется в дружный человеческий коллектив. Свобода, Равенство и Братство реальны лишь в сочетании с разумно организованным Трудом. Организация Труда, организация Промышленности — вот ключ ко всем проблемам жизни.
«Философы XIX века должны соединиться, чтобы всесторонне и полно доказать, что при современном состоянии знаний и цивилизации одни лишь промышленные и научные принципы могут служить основанием общественной организации...» — провозгласил Сен-Симон.
В чем же заключается та «природа человека», в согласии с которой надлежит реорганизовать настоящее и организовать будущее? Здесь в рассуждениях Сен-Симона появляется новый, по сравнению с его предшественниками — просветителями, мотив: «природа человека» ни в коем случае не есть нечто неизменное, раз и навсегда данное Матушкой-Природой. Она постоянно развивается, точнее, ее суть и заключается в постоянном развитии, изменении того, что даровано человеку природой. Куда, в каком направлении? К «наибольшему совершенству моральных и физических сил, на какое только способна человеческая организация», — формулирует Сен-Симон. Это — не абстрактно-философское рассуждение, а просто факт, который можно вычитать из наблюдений над жизнью как отдельного человека, так и целых народов. [64]
Стало быть, на общество нужно смотреть прежде всего как на систему внешних условий, внутри которых происходит «совершенствование» всех интеллектуальных, нравственных и физических сил — деятельных способностей — человеческого индивида. Социальная система тем совершеннее, чем более полно она обеспечивает расцвет всех индивидуально-человеческих сил, развертывание всех заложенных в человеке возможностей, и чем более широкой массе людей она открывает простор для такого, подлинно-человеческого, развития.
Сам человек, живой человеческий индивид, есть единственная мера, которой можно и нужно мерять все остальное. К человеку же нельзя прилагать никакую «внешнюю» по отношению к нему меру, какой бы красивой и точной она ни казалась, ибо она всегда будет заимствована из Прошлого.
«До сих пор люди шествовали по пути цивилизации, обратясь вспять к будущему: их взор был обычно обращен на прошлое, а на будущее они бросали лишь редкие и поверхностные взгляды». Гениальность такого поворота мысли заключалась в том, что акцент теперь делался не на условия деятельности готового, сложившегося Человека, а на условия его развития, его становления, его будущего, которое всегда, в каждый данный момент — впереди. Поэтому-то Идеал и нельзя задать человеку как готовый чертеж, как икону, как «внешнюю меру» и эталон. Наоборот, все иконы и эталоны надо мерять мерой совершенства живого человека, постоянно развертывающего свои возможности.
Эта гениально-простая идея рубила под корень все самые живучие принципы религиозного «идеала», в какие бы одежды он ни рядился, чему нисколько не мешало то обстоятельство, что и Сен-Симон, и [65] Фурье, и Роберт Оуэн не прочь были время от времени пококетничать с такими терминами, как «бог», «религия», «рай», и тому подобными. Так просто религию не обмануть.
Сен-Симон и Фурье самоотверженно пропагандировали свой идеал, апеллируя к «разуму» и к чувству «справедливости» современников. Но их гениальные идеи мало кого увлекли в то время. Ушей народа их голос не достигал, а у «просвещенной» и сытой публики их идеи вызывали лишь раздражение и насмешки. Рев органных труб и медных оркестров, славивших небесных и земных богов, звучал куда громче. Трагедия социалистов-утопистов была типичнейшей трагедией героев, пришедших в мир слишком рано. И не случайно идеалы Сен-Симона и Фурье в головах их учеников и последователей очень скоро приобрели карикатурные формы, стали слишком сильно напоминать идеалы христианства (ученикам так хотелось сделать эти идеалы понятными и доступными народу, воспитанному на евангелии!), а организации сен-симонистов и фурьеристов – религиозные секты... Принципиально новая идея — идея Социализма, чтобы быть понятной, предпочла выступать перед людьми в залатанном рубище «нового христианства»...
Казалось, захлебнулся еще один благородный почин, и идеал Просвещения снова превратился в икону, в идола, распятого на кресте.
Но жизнь идеала Возрождения и Просвещения не была окончена. Правда, ему пришлось на некоторое время переселиться с земли Франции в сумрачное небо немецкой философии, чтобы, отдышавшись в горнем воздухе спекулятивно-умозрительных высот, вновь вернуться на землю уже в ином облике.
Пронаблюдав воочию земные злоключения [66] прекрасного идеала, люди так и не смогли верно понять земные корни этих трагических злоключений. А не поняв, они снова стали искать их за облаками. Урок оказался недостаточно поучительным, и понадобились новые злоключения и новые усилия мысли, чтобы земные корни земных злоключений оказались наконец осмыслены. [67]