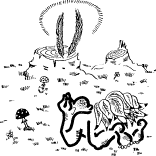Идеал и логика
Толстая барыня из «Плодов просвещения» восклицала:
– А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно с разумом. Да разум-то может быть глупый, тогда что?
У Канта с его «чистым разумом» получается нечто похожее, хотя «глупым» его и не назовешь. «Чистый разум» не отваживается на окончательное суждение о «сверхъестественном» (есть оно или его нет?) именно потому, что он достаточно умен и слишком хорошо представляет себе свои собственные возможности, самокритично их оценивает.
«Критика чистого разума» обстоятельно излагает логику — науку о мышлении, разворачивает систему правил, схем правильного мышления. Кант хочет предварительно отточить инструмент, а уже затем с его помощью решить, наконец, тщательно и аккуратно им пользуясь, все те проклятые вопросы, над [85] которыми бьется целые тысячелетия «несчастное» человечество.
Прежде всего Кант попытался подытожить все то, что было сделано в логической науке до него, чтобы выявить в ее теоретическом багаже только бесспорное, только окончательно отстоявшееся, и очистить науку от всех сомнительных положений. Он решил выделить в логике то ее непреходящее ядро, которое оставалось незатронутым никакими спорами, длившимися на протяжении двух тысячелетий, только бесспорное, только абсолютно очевидное для всех, для любого человека, чтобы строить дальше уже на абсолютно несокрушимом фундаменте. Такой фундамент, по замыслу Канта, должен быть совершенно независим от любых частных разногласий между философами по всем другим вопросам — по вопросу о природе и происхождении «мышления», об отношении мышления к вещам, к чувствам и настроениям человека, к его симпатиям и антипатиям и т.д. и т.п.
Выделив из истории логики искомый «остаток», Кант убедился, что остается не так-то уж много — ряд совершенно общих правил, сформулированных еще Аристотелем и его комментаторами. Отсюда и его вывод о том, что логике как науке со времен Аристотеля «не приходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение, относящиеся скорее к изящности, нежели к достоверности науки. Примечательно в ней также и то, что она до сих пор не могла сделать ни шага вперед и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной».
В самом подходе к делу отчетливо сказалось очень характерное для Канта стремление стать «над схваткой», стать «выше всех партий», выявить то, в [86] чем они все согласны независимо от всевозможных разногласий, пререканий и противоречий, выявить в их взглядах только «тождественное», а все «различия» отбросить.
Да, если бы истина добывалась так легко. Тогда лучшей логики и желать нечего...
Совокупность таких «общих» логических положений Кант и объединяет в «общую логику»: «Границы же логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только формальные правила всякого мышления...»
«Одни только формальные» значит здесь абсолютно всеобщие, абсолютно-безусловные, совершенно независимые от того, о чем именно люди мыслят, каково «содержание» их мышления, какие именно понятия, представления, образы и термины в нем фигурируют.
Для логики важно одно, чтобы мысль, высказанная в словах, в терминах, сцепленных в сколь угодно длинную цепочку, не противоречила бы самой себе, чтобы она была с самой собою согласна. Все остальное логики не касается и касаться е может.
Очертив границы «общей логики», Кант тщательно исследует ее принципиальные возможности. Компетенция ее оказывается весьма узкой. В силу указанной «формальности», то есть принципиального безразличия к знаниям «по содержанию», эта логика остается нейтральной не только, скажем, в споре Беркли со Спинозой, но и в споре любого из мыслителей с любым дураком, вбившим себе в голову самую смешную нелепость. Она обязана и нелепости вынести логическую санкцию, если та не противоречит сама себе. Так что самодовольная, согласная с собою глупость в глазах такой логики неразличима от [87] самой глубокой истины. А как же иначе? Ведь «общая логика не содержит и не может содержать никаких предписаний для способности суждения», способности «подводить под правила, т.е. различать, подчинено ли нечто данному правилу (casus datae legis) или нет».
Значит, нужна иная логика, или хотя бы новый ее раздел.
Здесь уже нельзя отвлекаться от различия знаний по содержанию, от которого обязана отвлекаться общая, чисто формальная логика. И если «общая логика» формулирует самые общие и абстрактные «правила применения рассудка вообще», то новый раздел должен специально излагать правила применения рассудка к осмыслению реального опыта людей, то есть научного его применения. А здесь дело обстоит значительно сложнее.
Наука строится из обобщений, относительно которых она может представить более серьезные гарантии, чем просто ссылки на проделанный опыт. Иначе они имеют не большую цену, чем печально знаменитое суждение «все лебеди — белы», первый же попавшийся факт грозит их опрокинуть как карточный домик. И доверяться такой науке было бы небезопасно.
Один остроумный философ придумал несколько позднее забавную притчу, иллюстрирующую мысль Канта. Живет в курятнике курица. Каждое утро является хозяин и приносит ей зернышек поклевать. Курица, несомненно, сделает обобщение — появление хозяина связано с появлением зернышек. Но в один прекрасный день хозяин явится не с зернышками, а с ножом, чем и докажет курице, что ей не мешало бы обрести более серьезные представления о путях «обобщения»... [88]
Суждения чисто эмпирического происхождения и содержания верны лишь по отношению к тому опыту, из коего они извлечены. Их нельзя ни в коем случае распространять на вещи, еще не побывавшие в этом опыте. Они верны, собственно, только с такой оговоркой: все лебеди, до сих пор побывавшие в поле нашего зрения, белы.
Научно-теоретические же суждения должны быть справедливы без такой оговорки. Отсюда и проблема — возможно ли, а если да, то почему, из протекшего «опыта» (стало быть, из части опыта) извлечь обобщение, претендующее на значимость и по отношению к будущему опыту? Почему мы убеждены, что суждение «все тела природы – протяженны» не может быть опровергнуто дальнейшим опытом, сколько бы он ни длился, как бы широко он ни распространялся?
Единственный ответ, который находит Кант, заключается в следующем. Так уж устроен аппарат нашего восприятия (зрения, осязания и т.д.), что все вещи «внешнего мира» он изображает перед нашим сознанием как протяженные, как пространственно-определенные. Поэтому в наш «опыт» вещь может быть включена только в качестве «протяженной». И даже если в природе имеются «непротяженные» вещи, а имеются такие или нет – нам неизвестно, то и их мы воспримем как «протяженные». Или вообще никак не воспримем.
Например, если предположить, будто наше зрение устроено так, что мы не воспринимаем никаких других цветов, кроме зеленого, то суждение «все лебеди – зелены» мы бы посчитали за «всеобщее и необходимое», за верное по отношению ко всякому возможному будущему опыту...
Отсюда Кант и делает вывод, что, кроме общей, [89] должна существовать логика, специально трактующая о правилах теоретического (по его терминологии – «априорного») применения интеллекта. Она должна дать набор схем, действуя в согласии с которыми мы образуем теоретические суждения, обобщения, претендующие на «всеобщий и необходимый» (в пределах всякого возможного, всякого мыслимого опыта) характер.
Такой раздел логики уже может и должен послужить каноном (если и не органоном) научно-теоретического познания. Кант присваивает ему наименование «логики истины» или «трансцендентальной логики».
Подлинно-первоначальными логическими формами (схемами) деятельности мышления теперь оказываются уже не закон тождества и запрет противоречия, а всеобщие схемы соединения, сочетания различных представлений, почерпнутых индивидом «из опыта».
Коренным недостатком прежней логики Кант считает то обстоятельство, что она вообще не пыталась рассмотреть и проанализировать эти фундаментальные схемы работы нашего мышления, акта производства суждений: «Я никогда не удовлетворялся дефиницией суждения вообще, даваемой теми логиками, которые говорят, что суждение есть представление об отношении между двумя понятиями... В этой дефиниции не указано, в чем состоит это отношение».
Если же от подобного вопроса не отмахиваться, то не нужно большой проницательности, чтобы увидеть: интересующее Канта отношение всегда представляет собою категорию. Категории же, то есть логические моменты всех суждений, «суть различные возможные способы соединять представления в сознании... – [90] пишет он в «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике», — понятия о необходимом соединении представлений в сознании, стало быть, принципы объективно значимых суждений». Например: связка есть в суждении, выражающая отношение, «имеет... своей целью именно отличить объективное единство данных представлений от субъективного».
Категории как раз и суть те коренные, первоначальные схемы работы мышления, благодаря которым вообще становится возможным связный опыт:
«Так как опыт есть познание через связанные между собой восприятия, то категории суть условия возможности опыта и потому a priori применимы ко всем предметам опыта»; «мы не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помощью категорий»... Посему логика, если она хочет быть наукой о мышлении, и не может быть ничем иным, как связной системой («таблицей») категорий. Именно категории составляют формы (схемы) производства понятий, схемы извлечения из личного опыта всеобщих выводов, то есть всеобщих и необходимых суждений, совокупность которых составляет Науку...
Но тут мы и подходим к самому любопытному пункту логической теории Канта.
Категории позволяют человеку извлекать из своего личного опыта некоторые всеобщие истины, и «трансцендентальная логика» учит его действовать при этом правильно.
Однако перед человеком вырастает еще одна задача, решать которую его не может научить ни «общая логика», ни «трансцендентальная логика истины», задача (или проблема) полного теоретического синтеза, соединения всех отдельных теоретических обобщений в единую теорию. Речь идет здесь уже не о единстве чувственных данных опыта в составе [91] понятия, не о формах (схемах) объединения чувственно созерцаемых явлений в рассудке, а о единстве самого «рассудка» и продуктов его обобщающей деятельности.
И в логике Канта возникает еще один этаж, своего рода «металогика истины», ставящая под свой критический контроль уже не отдельные акты «обобщения опыта», а весь процесс обобщения Опыта с большой буквы. Не отдельные функции мышления, а всё Мышление в целом.
Стремление к созданию единой, целостной теории относительно любого предмета естественно и неискоренимо. Мышление не может удовлетвориться простым нагромождением отдельных «обобщений», пусть даже каждое из них имеет «всеобщий и необходимый характер». Мышление всегда старается увязать их в составе целостной теории, развитой из единого принципа.
Способность, которая обеспечивает решение такой задачи, и называется у Канта «разумом» (в отличие от «рассудка», как способности производить отдельные, «частные» выводы из опыта). «Разум» как высшая синтетическая (объединяющая) функция интеллекта, в чем и состоит его специальная задача, «стремится довести синтетическое единство, которое мыслится в категориях, до абсолютно безусловного».
Дело в том, что только внутри такого полного «синтеза» каждое отдельное, «частное» обобщение опыта становится целиком справедливым в смысле всеобщности и необходимости.
Ибо только внутри полного синтеза можно оговорить все условия, при которых данное обобщение может считаться справедливым уже безоговорочно. А ведь только тогда оно делается вполне [92] гарантированным от угрозы опровержения новым опытом, новыми и столь же правильными обобщениями...
Поэтому если научно-теоретическое (по терминологии Канта — «априорное») обобщение должно четко оговаривать те условия, при которых оно верно, и если полный перечень «определений» («предикатов») понятия предполагает соответственно полный перечень условий его истинности, то «разум» нужен не только там, где речь идет о сведении «всех» готовых понятий в единую систему, а и в акте каждого отдельного обобщения, в процедуре определения каждого понятия.
Но здесь-то и таится коварство. При попытке осуществить «полный» синтез (определений понятия и условий его истинности) мышление с неизбежностью, заложенной в его природе, впадает в состояние безвыходных, принципиально неразрешимых с помощью логики (как общей, так и трансцендентальной) противоречий — антиномий.
В трагическое состояние антиномичности «рассудок», то есть мышление, в точности и неукоснительно соблюдающее все правила логики, впадает вовсе не только потому, что «опыт» всегда незакончен, не потому, что он на основе «части опыта» пытается сделать обобщение, справедливое по отношению ко всему «опыту в целом». Это бы еще полбеды. Беда же в том, что даже и протекший опыт, если только учитывать его целиком, тоже неизбежно антиномичен. Ибо сам «рассудок», если исследовать его, так сказать, анатомию, заключает в себе не только «разные», но и прямо противоположные категории, никак не совместимые одна с другой без противоречия.
Так, в инструментарии рассудка имеется не только категория «тождества», но и полярная ей категория «различия». Рядом с понятием «необходимость» [93] в арсенале схем «объективных суждений» (то есть в таблице категорий) имеется также и понятие «случайность». И так далее. Причем каждая категория столь же правомерна, как и противоположная ей, и сфера ее применимости столь же широка, как и сам «опыт».
И любое явление, наблюдаемое нами в пространстве и времени, в принципе может быть осмыслено как в той, так и в другой категории. Я могу исследовать любой объект (и любую, сколь угодно широкую совокупность таких объектов) как под углом зрения «количества», так и под углом зрения «качества». Я могу рассматривать его как «причину» (необходимо следующих за ним событий), но с таким же правом могу осмысливать его и как «следствие» (всех предшествующих событий). И в том и в другом случае я нигде не преступлю никаких «логических» правил. А в итоге любое явление — смотря по тому, в какой именно категории я его мыслю, — может послужить основой для прямо противоположных логических действий; любое явление дает в логическом выражении два одинаково правильных, как с точки зрения логики, так и с точки зрения «опыта», и, тем не менее, взаимоисключающих друг друга суждения.
Так что относительно любого предмета во вселенной могут быть высказаны две одинаково оправданных, и тем не менее взаимоисключающих, точки зрения. А в пределе — две теории, каждая из которых создана в абсолютно строгом согласии как со всеми требованиями логики, так и со всей совокупностью эмпирических данных. Поэтому «мыслимый мир» — или мир, как и каким мы его мыслим, — всегда «диалектичен», раздвоен в себе, логически противоречив. Что и обнаруживается сразу же, как только мы пытаемся создать теорию, которая обнимала бы [94] своими принципами все частные «синтезы», все частные обобщения.
Неизбежную, в самой природе мышления укорененную антиномичность можно было бы устранить только одним-единственным путем. А именно: выбросив из головы, из «инструментария рассудка», ровно половину всех категорий. Одну из полярных категорий объявив законной, а другую запретив использовать отныне и навек.
Но этого проделать нельзя, не обессмысливая заодно и ту категорию, которую почему-то решили сохранить. Да и как решить, какую из них оставить, а какую запретить? Предписать всем мыслящим людям впредь рассматривать все факты опыта только с точки зрения их «тождества», их «одинаковости» и запретить фиксировать в мысли «различия»? А почему не наоборот?
Тем не менее вся прежняя «догматическая метафизика» старалась поступать именно так. Она понимала, что иначе избавиться от антиномий внутри научного понимания действительности нельзя. И она объявляла, например, «случайность» — чисто субъективным понятием, простым названием для тех явлений, «причин» которых мы до сих пор не знаем, и таким образом превращала «необходимость» в единственно объективную категорию. Точно так же она поступала с «качеством», считая его чистой иллюзией нашей чувственности, и тем самым возводила «количество» в ранг единственно объективной характеристики «вещей-в-себе», и т.д. и т.п.
(Поэтому-то Гегель и назвал указанный метод мышления «метафизическим». И он действительно характерен для докантовской «метафизики», старавшейся избавить себя от противоречий за счет простого игнорирования половины законных [95] категорий – «принципов суждений с объективным значением», — объявляя их принципами суждений «чисто субъективного» содержания... ненаучных суждений.)
Кант же, устанавливая корни антиномичности мышления в наличии прямо противоположных категорий, справедливо посчитал, что у философии нет никаких оснований предпочитать одну из полярных категорий в ущерб другой. Но как же тогда выйти из подобного тупика?
Единственный выход, который находит Кант, — признание вечной антиномичности «разума». Антиномичность — логическая противоречивость — суть наказание «рассудку» за попытку превысить свои законные права, за попытку осуществить «абсолютно полный синтез» всех понятий, то есть высказать суждение о том, какова вещь сама по себе, а не только «во всяком возможном опыте».
Пытаясь высказать такое суждение, «рассудок» залетает в такую область, где бессильны все его законы и предписания. Он совершает преступление против границ своей собственной применимости, вылетает за границы «всякого возможного опыта». За что и карается противоречием каждый раз, как только теоретик возомнит, что он уже построил теорию, обнимающую своими понятиями все бесконечное многообразие эмпирического материала в своей области, и тем самым постиг «вещь-в-себе» такою, какова она есть независимо и до ее преломления через призмы нашей чувственности и рассудка... Появление логического противоречия Кант и оценивает как индикатор вечной незавершенности «опыта», а стало быть и теории, на него опирающейся.
Неизбежную антиномичность «рассудка», пытающегося осуществить «безусловный синтез», то есть решить задачу «разума», Кант и назвал [96] «естественным состоянием разума» — по аналогии с тезисом Гоббса о «войне всех против всех», как естественном состоянии человеческого рода. В «естественном состоянии» рассудок мнит, будто он способен, опираясь на ограниченный условиями времени и места «опыт», выработать понятия и теории, имеющие безусловно всеобщий характер.
Вывод Канта таков: достаточно строгий анализ любой теории, заявляющей претензию на абсолютно полный синтез, на «безусловное» значение своих утверждений, всегда обнаружит в ее составе более или менее ловко замаскированные антиномии.
Рассудок, просветленный критическим пониманием этого обстоятельства, сознающий свои законные права и не старающийся залететь в «трансцендентные» (запредельные для него) сферы, всегда будет стремиться к «полному синтезу», но никогда не позволит себе утверждать, что он такого синтеза уже достиг. Он будет скромнее.
И понимая, что относительно любой «вещи-в-себе» всегда возможны, по крайней мере в предельном случае, две одинаково правильных (и с точки зрения логики, и с точки зрения фактов) теории, рассудок уже не станет стремиться к полной и окончательной победе одной из них и к окончательному посрамлению другой. Теоретические противники, вместо того чтобы вести постоянную войну друг с другом, должны учредить между собою нечто вроде мирного сосуществования, признавая взаимно права друг друга на относительную истину, на «частный синтез». Они должны, наконец, понять, что по отношению к «вещи-в-себе» они одинаково неправы, что «вещь-в-себе» навсегда останется вечным «иксом», допускающим прямо противоположные толкования. Но, будучи одинаково неправы по отношению к «вещи в [97] себе», они одинаково правы в другом отношении, в том смысле, что «рассудок в целом» (то есть «разум») имеет внутри себя противоположные интересы, одинаково равноценные и равноправные.
Так, одну теорию занимает поиск «тождественных» черт (скажем, человека и животного, человека и машины), а другую как раз наоборот, интересуют «различия» того и другого. Каждая из них преследует один, частный, интерес «разума», и свести их построения в одну непротиворечивую теорию нельзя. Потому, что «тождество» не есть «различие», есть «неразличие», и наоборот. И ни одна из них не раскрывает объективной картины вещи, взятой «сама по себе», независимо от ее преломления через призму логически противоречащих категорий.
«В естественном состоянии конец спору кладет победа, которой хвалятся обе стороны и за которой большей частью следует лишь непрочный мир, устанавливаемый вмешавшимся в дело начальством; в правовом же состоянии дело кончается приговором, который, проникая здесь в самый источник споров, должен обеспечить вечный мир».
Итак, высшим «априорным» постулатом и законом «правильного мышления» выступает здесь знаменитый «запрет логического противоречия», своего рода «категорический императив», только не в области морали, а в области логики. В виде такого логического императива Кант задает теоретическому мышлению идеал, который состоит в полной и абсолютной «непротиворечивости» знания, то есть в полном и абсолютном «тождестве» научных представлений всех людей о мире и о себе самом.
Но сам же Кант доказывает, что искомое блаженное состояние реально недостижимо, что оно навеки останется лишь «недосягаемым идеалом» научного [98] познания, что «непротиворечивость знания» — нечто вроде синей птицы, которая перестает быть синей тотчас же, как только человеку посчастливится ее схватить...
Отсюда Кант делает вывод: средствами Науки (силами «теоретического разума») вопрос о «сущности человека», а тем самым и об «идеале», решить нельзя. «Теоретический разум» здесь неизбежно терпит крах, запутываясь в неразрешимых противоречиях.
Поэтому и «идеал» кантовской этики нельзя доказать научно — логически. Здесь приходится идти на поклон «практическому разуму» и, в чисто практических целях, принять за истину, что кроме «мира явлений», познаваемых Наукой, существует еще и бог, и бессмертие души, и свобода воли, то есть все те «вещи», которые «теоретический разум» не способен ни доказать, ни опровергнуть...
Конечно же Канта интересовали не религиозные сказки сами по себе. И бог и бессмертие души заботили его прежде всего как способ обоснования понятия свободы, этого принципа организации человеческой жизни.
Дело в том, что Наука и Логика, как их понимал Кант, абсолютно несовместимы с понятием свободы. В «мире явлений», который исследуется Наукой, безраздельно царит необходимость, сплетенная из бесконечно многообразно переплетающихся цепей причин и следствий. Если Человека рассматривать глазами Науки, как крохотную частичку «мира явлений» в пространстве и времени, то никакой надежды на «свободу», точнее, на «освобождение» Человека от железных цепей необходимости не остается. Наоборот, каждый новый успех Науки будет выковывать лишь новое звено бесконечной цепи, будет показывать лишь новую ниточку, за которую «мир явлений» [99] дергает каждого человека как марионетку в кукольном театре, определяя (хотя сам человечек этого и не сознает) каждый его поступок, каждое его желание, каждую его мысль. И если до конца права Наука, выясняющая все условия и причины «субъективных» событий, то понятия свободы и идеала следует выбросить из головы, как пустые химеры, как наивные иллюзии, за которыми кроется попросту еще не познанная Необходимость, – «свободным» человеку кажется такое его действие или намерение, «причин» коего он не знает, не выяснил, не объяснил и не выразил в формуле...
И чем шире становится сфера Необходимости, раскрываемой Наукой, тем более узкой делается сфера мнимой «свободы». Чем дальше идет человек по пути научно-теоретического познания, тем полнее и яснее он убеждается, что каждый его поступок и каждая его мысль есть лишь следствие причинных воздействий на него со стороны «мира явлений».
В итоге получается, что и «мир явлений», и логика, обеспечивающая его научно-теоретическое познание, и Наука, говорящая от имени «мира явлений», оказываются принципиальными врагами свободы, даже самого понятия свободы, а не только реальной свободы. Если «мир явлений», описываемый Наукой, и есть тот единственно реальный мир, в котором живет человек, то «свободы» не только нет сейчас, но и не может быть никогда и нигде.
Наука утверждает: Мир таков, каков он есть, а есть он именно такой, каким он и должен был сделаться в качестве необходимого следствия всех своих предшествующих состояний. И каждый отдельный человек тоже именно таков, каким он должен был стать (и быть) в условиях существующего мира. Все его поведение можно до конца объяснить (а тем [100] самым — «оправдать») с точки зрения законов Науки — механики, физики, оптики, химии, физиологии и т.д. Ведь всеобщих и необходимых «законов», формулируемых наукой, не «нарушает», как само собой понятно, ни капризный деспот-князек, ни самодур-чиновник, ни хам-лакей, ни грабитель-убийца, ни самый последний негодяй. Все они действуют в рамках тех «законов», тех ограничений, которые Наука налагает на «мир явлений», на «существующее». Все они действуют – хотят они того или нет — в согласии со всеми «законами науки», И если Наука есть исчерпывающее (в принципе, разумеется, а не на сегодняшний день) познание Мира, то человек не вправе негодовать на существующее, а обязан покориться ему и признать, что все в Мире устроено именно так, как надо. То, что есть, то и должно было стать таким, как оно есть, то и «должно быть».
А «идеал», «представление о высшей цели самоусовершенствования человека», «категорический императив», «свобода, равенство и братство» в таком случае — лишь химеры воображения, лишь пустые мечтания и антинаучные выдумки, лишь поэзия и беллетристика, несовместимые с научной картиной мира... Наука внушает человеку: будь рабом «существующего».
Как же выпутывается Кант из столь щекотливого положения?
Через доказательство того, что Наука («теоретический разум») ни в коем случае не дает и, главное, в принципе не может дать человеку исчерпывающего познания Мира. На самом деле Мир вовсе не таков, каким его рисует Наука; она может дать лишь математическое описание «явлений», то есть тех «следствий», которые Действительный Мир вызывает в органах чувств человека, в его «созерцании», в [101] его «сознании», внутри его собственного Я. Ничего больше.
Та картина, которую «реальный мир» (мир «вещей-в-себе») возбуждает в нашем воображении и зрении, «внутри нашего Я», по существу зависит от того, как устроено это Я, и даже от того, как оно «настроено». Грубо говоря, если оно «настроено на Добро», то и глаза будут активно выделять в окружающем «мире явлений» лишь те вещи, обстоятельства и условия, которые важны с точки зрения Добра, а глаза негодяя будут также активно и целенаправленно выбирать и отмечать, «замечать» вокруг себя лишь условия и поводы для совершения очередного негодяйства...
Но свое собственное Я человек все же может перестраивать, постепенно приводя его к согласию со своим «лучшим Я», с голосом совести. Поэтому в зависимости от своей «моральной установки» человек и «теоретически» воспринимает и осознает окружающий мир по-разному.
Стало быть, при таком — субъективистском — толковании «мира явлений» моральная установка может, и даже очень сильно, влиять на процесс теоретического, научно-логического, математического «познания»; но не на каждом шагу (ибо «дважды два — четыре» одинаково правильно при любой моральной установке), а лишь в тех роковых пунктах «теоретически-математического рассуждения», где «теоретический разум» молчит, лишь там, где надо выбирать между двумя одинаково правильными и в то же время одинаково и взаимоисключающими друг друга доводами теоретического мышления.
А в такую ситуацию, как показывает Кант, «теоретизирующий рассудок» (то есть мышление, в точности следующее всем правилам логики) попадает [102] неизбежно и систематически. Он снова и снова оказывается в положении рыцаря на распутье, на развилке двух дорог. Точнее, он постоянно приводит человека на такой развилок и тут замолкает. Он предлагает человеку два одинаково логически безупречных и одинаково оправданных с точки зрения всего протекшего опыта решения. Куда сворачивать в такой ситуации: направо или налево? Куда тянуть дальнейшую цепочку логически безупречных рассуждений?
Теоретическое мышление, само по себе взятое, не способно дать тут хотя бы малейший намек. Человек попадает в неприятное положение буриданова осла, стоящего между двумя совершенно одинаковыми копнами сена, ни одну из коих он не может предпочесть другой. «За» оказывается ровно столько же с обеих сторон, сколько и «против», и весы логического рассуждения застывают в уравновешенном состоянии.
Вот тут-то склонить весы в ту или другую сторону и способна даже микроскопическая песчинка. Такой песчинкой и оказывается «голос совести», довод «практического разума», вес «прекрасной души»... Как ни тих этот голос, как ни мало весит «прекрасная душа» на чаше судеб мира, но именно они оказываются решающими.
Так спасает Кант понятия «свобода» и «идеал» — через доказательство неспособности теоретического мышления (науки) дать человеку логически-непротиворечивое изображение «мира явлений». Наука принципиально не способна реализовать ту самую цель, которую она сама же себе ставит, дать логически-непротиворечивый «синтез» всех суждений «опыта». [103]
Значит, науке нельзя доверить решение вопроса о самых важных делах Человечества. Значит, надо в самых главных пунктах предоставить голос уже не науке, а вере. Только вера, только постулаты «практического разума» (согласно которым существует и бог, и бессмертие души, и свобода от железных цепей причинно-следственных зависимостей) и могут в конце концов обеспечить «непротиворечивое» понимание и Мира, и Человека, и места Человека в Мире. Только она и может спасти людей от «диалектики», от раздвоенности Я, от борьбы противоположных мнений, взглядов и теорий, от вечного спора Человека с самим собой...
В итоге выходило, что Человек должен впредь доверять как науке, так и вере.
В науке он должен следовать «запрету противоречия», стремиться к «абсолютному тождеству» всех отдельных умов, то есть к полному и абсолютному согласию всех Я в отношении всех важных вопросов, понимая, однако, что такое согласие («тождество») — лишь недосягаемый идеал, который нигде и никогда в науке реализован не будет.
И если он все-таки хочет «вечного мира» и в науке, и в жизни, то он должен склонить голову перед верой, принять из чисто «практических» соображений и бога, и бессмертие души, и свободу воли.
И этот вывод абсолютно неизбежен, если науку понимать так, как ее понимал Кант. Такая наука и в самом деле требует — как своего дополнения и противовеса — теоретически недоказуемой веры в вечные и священные («трансцендентальные») принципы морали, совести, долга перед человечеством. В принципы, которые сами по себе никакого отношения к науке не имеют и не могут быть ею ни опровергнуты, ни доказаны. [104]
Авторитет ученого (представителя «теоретического разума»), следовательно, должен потесниться и уступить место авторитету попа новой, реформированной на моральный, на протестантский лад, религии. В случае же возникновения спора между двумя одинаково авторитетными учеными (или школами в науке), одинаково логично аргументирующими свои сталкивающиеся позиции, решение вопроса: кто же из них прав? — должно быть передано на суд новой религии. И поп от морали, морализирующий поп, будет решать, какой из двух одинаково логичных взглядов ведет к добру, а какой — ко злу. И решать будет, разумеется, не на основе логики (тут решить невозможно, тут — вечная «диалектика»), а на почве морали, на почве веры, на почве «практического разума».
Морализирующий поп и становится тем самым высшей инстанцией в решении научных споров, становится арбитром, представителем высшей истины. Он и есть единственный спаситель от кошмара «диалектики», в которую заводит человека логика.
Стало быть, в познании должны постоянно действовать два высших критерия. С одной стороны, «логический» — «запрет противоречия», или по-иному выраженный «закон тождества», а с другой, «моральный», — «категорический императив».
Следуй принципам логики, обеспечивающим «непротиворечивость» теории, и веруй в высшие принципы морали, будь совестливым, добрым и благожелательным к людям, к роду человеческому, и все остальное приложится. Такова позиция Канта.
Многие и по сей день мыслят именно так. Все те, кто думают, что формальная непротиворечивость теоретического построения и есть идеал теоретического познания, «последняя цель», к которой наука [105] все время должна стремиться, никогда, однако, ее не достигая.
Если подобный идеал науки принят, то уже с железной необходимостью возникает нужда в «моральном регуляторе» мышления. Возникает та или иная разновидность религиозно окрашенной морали. Возникает иллюзия, будто «злоупотребление» наукой и ее плодами можно предотвратить моральными проповедями. Хотя горький опыт давно удостоверил, что самая высокая моральность людей науки бессильна предотвратить ее бесчеловечные применения, бессильна преградить дорогу технически обеспеченному кошмару Хиросимы и Освенцима, не говоря уже о более мелких кошмарах и кошмарчиках.
Реальное бессилие кантовского решения остро понял Гегель.
Да, логика, построенная на фундаменте «закона тождества» и «запрета логического противоречия» (что, собственно, одно и то же, только выражено один раз в позитивной, а другой раз в негативной форме), с неизбежностью приводит к «диалектике» — к раздвоению и столкновению двух одинаково «логичных» и тем не менее несовместимых тезисов, идей, теорий и позиций, к вечному спору человека с самим собой. И раз логика со всеми ее принципами избавить человека от «диалектики» не в состоянии, то возникает нужда в некотором высшем арбитре, в новом боге, в новом спасителе. Спаситель — морально истолкованный бог. Бог, как «трансцендентальный принцип» морали и совести. Но что же это за бог, если он настолько бессилен? И так ли уж верна логика, которая делает такого бога своим необходимым дополнением?
Ведь реальным законом, то есть всеобщей формой (схемой) развития мысли, науки, теории, всегда [106] было, есть и будет противоречие. То самое противоречие, которое Кант объявляет «диалектической иллюзией».
Так почему же, спрашивает Гегель, неосуществимое, должное мы обязаны почитать за «высший и непререкаемый закон мышления», а реальную форму (схему) развивающегося мышления — наличие противоречия, требующего разрешения, — за иллюзию, за фикцию, хотя бы и необходимую? Не резоннее ли поступить наоборот? Не лучше ли называть вещи своими именами? Реальный закон развития интеллекта и нравственности – диалектическое противоречие — законом мышления, а недостижимую фикцию — запретность противоречия — иллюзией и фикцией? Ведь выдавая фикцию за «высшее основоположение рассудка вообще», за высший априорно-формальный критерий истины, Кант в логике повторяет тот же самый грех, что и в этике, в учении о практическом разуме.
Так Гегель разрушил оба высших постулата кантовской философии: «категорический императив» и «запрет логического противоречия» — аргументами от истории знания и нравственности. (Нравственность тут понимается в широком смысле. У Гегеля она включает прежде всего отношения, которые охватывают семью, гражданское общество, государство.) История убедительно показывает, что не «запрет противоречия» и не «категорический императив» были теми идеалами, в погоне за коими люди построили здание цивилизации и культуры. Как раз наоборот, культура развивалась благодаря внутренним противоречиям, возникающим между научными тезисами, между людьми, через их борьбу. Диалектическое противоречие в самой сути дела, внутри его, а вовсе не находящийся где-то вечно впереди и вне [107] деятельности «идеал», есть та активная сила, которая рождает прогресс человеческого рода.
Диалектическое противоречие (столкновение двух тезисов, взаимно предполагающих и одновременно взаимно исключающих друг друга) есть, по Гегелю, реальный, верховный закон развития мышления, творящего культуру. И повиновение этому закону — высшая «правильность» мышления. Соответственно «правильным» путем развития нравственной сферы является также противоречие и борьба человека с человеком. Другое дело, считал Гегель, что формы борьбы от века к веку становятся все более гуманными и что борьба вовсе не обязательно должна оборачиваться кровавой поножовщиной...
Итак, идеал, который проглядывал в результатах «Феноменологии духа», выглядел уже по-иному по сравнению с кантовским. Идеал понимался уже не как образ того «состояния мира», которое должно получиться лишь в бесконечном прогрессе. Идеал — самое движение вперед, рассматриваемое с точки зрения его всеобщих контуров и законов, которые постепенно, от века к веку, прорисовываются сквозь хаотическое переплетение событий и взглядов, вечное обновление духовного мира, «снимающее» каждое достигнутое им состояние.
Идеал не может заключаться в безмятежном, лишенном каких бы то ни было противоречий, абсолютном тождестве или единстве сознания и воли всех бесчисленных индивидов. Такой идеал — смерть духа, а не его живая жизнь. В каждом налично-достигнутом состоянии знания и нравственности мышление обнаруживает противоречие, доводит его до антиномической остроты и разрешает через установление нового, следующего, более высокого состояния духа и его мира. Поэтому любое данное состояние [108] есть этап реализации высшего идеала, универсального идеала человеческого рода. Идеал реален здесь, на земле, в деятельности людей.
Гегель тем самым помог философии порвать с представлением об идеале как об иллюзии, которая вечно манит человека своей красотой, но вечно же его обманывает, оказываясь непримиримым антиподом «существующего» вообще. Идеал, то есть образ высшего совершенства, вполне достижим для человека. Но где и как?
В мышлении, ответил Гегель. В философско-теоретическом понимании «сути дела» и в конце концов — в логике, в квинтэссенции такого понимания. На высотах диалектической логики человек равен богу — тому «абсолютному мировому духу», который сначала осуществлялся стихийно и мучительно в виде коллективного разума миллионов людей, творившего историю. Тайной идеала и оказывается идея, абсолютно точный портрет которой рисуется в логике, в мышлении о мышлении. Идеал и есть идея в ее «внешнем», зримом и осязаемом, воплощении, в ее чувственно-предметном бытии. В диалектических коллизиях процесса «внешнего воплощения» идеи Гегель и старается разрешить проблему идеала. И вот что получается.
Теоретическое мышление, идеальный образ которого Гегель обрисовал в «Науке логики», всегда диалектично. К нему и относится все то, о чем было сказано выше. Лишь чистое мышление всегда полно внутреннего беспокойства, стремления вперед и ввысь, в нем вновь и вновь вызревают и рвутся к разрешению имманентные противоречия.
Однако чистое мышление существует лишь в «Науке логики», лишь в абстракции философа-теоретика, в его профессиональной деятельности. А ведь [109] кроме философской логики «абсолютный дух» творит и мировую историю. И здесь мыслящему духу противостоит косная, неподвижная и неподатливая материя, с которой творчески мыслящий дух вынужден считаться, если он не хочет остаться бессильным фантазером или прекраснодушным болтуном...
Неутомимый труженик-дух творит мировую историю, пользуясь человеком как орудием своего собственного воплощения во внешнем, природном материале. Это творчество, в изображении Гегеля, очень похоже на работу скульптора, который лепит из глины свой собственный портрет. Проделав такую работу, художник убеждается, что затея удалась ему лишь отчасти и что «внешнее изображение» в чем-то на него самого похоже, а в чем-то нет. Сравнивая готовый продукт своей деятельности с самим собой, скульптор видит, что в ходе творчества он изменился, стал совершеннее, чем был до того, и портрет поэтому нуждается в дальнейшем усовершенствовании, в поправках. И тогда он снова принимается за работу, иногда ограничиваясь частными коррективами, иногда безжалостно ломая созданное, чтобы соорудить из обломков нечто лучшее. Так же и дух-творец (абсолютный, «мировой» дух) делает от эпохи к эпохе свое внешнее изображение все более и более похожим на себя самого, приводит и науку, и нравственность ко все большему согласию с требованиями чистого мышления, с логикой разума.
Но — увы! — как бы мыслящий дух ни старался, как бы высоко ни выросло его мастерство, материя остается материей. Поэтому-то автопортрет духа-скульптора, выполненный в телесно-природном материале, в виде государства, искусства, системы частных наук, в виде промышленности и т.д., никогда и не может стать абсолютным подобием своего [110] творца. Идеал (то есть чисто диалектическое мышление) при его выражении в природном материале всегда деформируется в соответствии с требованиями материала, и продукт творческой деятельности духа всегда оказывается некоторым компромиссом идеала с мертвой материей.
С такой точки зрения вся веками созданная культура предстает как «воплощенный идеал», или как идеал, скорректированный естественно-природными (а потому непреодолимыми) свойствами того материала, в котором он воплощен. Например, в виде единственно возможного в человечески-земных условиях нравственно-правового выражения идеала Гегель узаконил современную ему экономическую структуру «гражданского» (читай: буржуазного) общества и, далее, соответствующую ей правовую и политическую надстройку, непосредственно — конституционную монархию Великобритании и наполеоновскую империю. Прусскую же монархию он истолковывал как естественное преломление идеи через национальные особенности германского духа, — тоже как идеал...
Такой оборот мысли вовсе не был результатом личной измены философа революционным принципам диалектики. Он был естественнейшим выводом из диалектического идеализма. Иного результата диалектика дать не могла, не порывая с представлением, будто мировую историю творит чистый разум, развивающий свои образы силою имманентно вызревающих в нем противоречий.
Наиболее высоким способом чувственно-предметного воплощения идеи Гегель считал искусство, и потому проблема идеала в строгом смысле связывалась им именно с эстетикой. Искусство, по Гегелю, имеет перед всеми другими приемами внешнего [111] выражения идеи то преимущество, что оно свободно в выборе того материала, в котором абсолютное мышление жаждет выполнить свой автопортрет. В реальной жизни, в экономической, политической и правовой деятельности человек связан условиями, диктуемыми материальным характером его деятельности. Иное дело – искусство. Если человек чувствует, что ему никак не удается воплотить свой идеальный замысел в граните, он бросает гранит и начинает обрабатывать мрамор; оказывается недостаточно податливым мрамор — он бросает резец и берется за кисть и краски; исчерпаны возможности живописи — он оставляет в покое пространственные формы выражения идеи и вступает в стихию звука, в царство музыки и поэзии. Такова в общих контурах гегелевская картина эволюции форм и видов искусства.
Смысл описанной схемы весьма прозрачен. Человек, пытаясь воплотить идею в чувственно-природный материал, переходит ко все более и более податливым и пластичным видам материала, ищет такую «материю», в которой дух воплощается полнее и легче. Сначала — гранит, в конце — воздух, колеблющийся в резонансе с тончайшими движениями «души», «духа»...
После того, как дух отразился в зеркале искусства во всем своем поэтическом многообразии, он может внимательно, пользуясь глазами и мозгом философа-логика, рассмотреть самого себя в своем «внешнем» выражении и увидеть логический скелет, логическую схему своего собственного, «отчужденного» в музыке, поэзии и т.д. образа. Полнота человеческого облика на достигнутой ступени самопознания уже не интересует логическую мысль абсолютного духа, и живой человек для него виден примерно в таком же виде, в каком, употребляя [112] современную аналогию, он предстает на экране рентгеновского аппарата. Жесткие лучи рефлексии, рационального познания, разрушают живую плоть идеала, обнаруживают, что он был всего-навсего «внешней», бренной оболочкой абсолютной идеи, то есть чистого мышления. Таков век, не без грусти замечает Гегель, такова нынешняя стадия развития духа к самопознанию... Человек должен понять, что абсолютный дух уже использовал его тело, его плоть, его мозг и его руки для того, чтобы «опредметить» себя в виде мировой истории. А теперь у него одна задача — рассматривать этот отчужденный образ чисто теоретически, выявляя в нем абстрактные контуры абсолютной идеи, диалектической схемы логических категорий.
Нынешняя эпоха вообще неблагоприятна для искусства, для расцвета «прекрасной индивидуальности», не раз повторяет Гегель. Художник, как и все люди, заражен громко звучащим вокруг него голосом рефлексии рассуждающего мышления и к непосредственному видению мира уже неспособен, как неспособен взрослый взглянуть на мир наивными глазами ребенка. Счастливое детство человечества — античное царство прекрасной индивидуальности — уже миновало и никогда не вернется вновь. И то, что люди называют идеалом, есть вовсе не будущее, а, как раз наоборот, невозвратимое прошлое человечества.
Человек современности может переживать наивно прекрасную стадию своего духовного развития лишь в залах музеев, лишь в выходной день, предоставленный ему для отдыха от тяжкого и безрадостного служения абсолютному духу. В реальной же жизни он должен быть либо профессором логики, либо сапожником, либо бургомистром, либо [113] предпринимателем и послушно выполнять порученные ему абсолютной идеей функции. Всесторонне-гармонически развитая индивидуальность в нынешнем мире с его дробным разделением труда — увы! — невозможна. В чувственно-предметном, практическом своем бытии каждый человек отныне и впредь должен быть профессионально ограниченным кретином. И только в чтении трактатов по диалектической логике и в созерцании художественных шедевров он может воспарять к высотам абсолютного духа, быть и чувствовать себя равным божеству...
Таким образом, проблема идеала загоняется Гегелем целиком и полностью в эстетику, в философию «изящного искусства», ибо, по его теории, лишь в искусстве можно реализовать и увидеть идеал, но никогда — в жизни, в чувственно-предметном бытии живого человека. Реальная действительность прозаична и враждебна поэтической красоте идеала, поскольку, как прекрасно понимал философ, идеал неразрывен с красотой, а красота — со свободным, гармонически всесторонним развитием человеческой индивидуальности, что никак несовместимо с прозой и цинизмом буржуазного строя жизни. Выхода же за пределы этого строя Гегель не видел, несмотря на всю гениальную остроту и прозорливость своего ума. Да такого выхода в его время и не было еще в действительности, а к утопиям всякого рода философ питал глубокое и оправданное недоверие.
Значит, условия, обеспечивающие гармонически-всестороннее развитие личности в современном (а тем более в грядущем) образе мира, согласно концепции Гегеля, уже невозможны. Они были мыслимы только в младенческом состоянии культуры мира — в рамках античного демократического строя города-государства — и никогда больше не возвратятся, не [114] возродятся. Мечтать о них — значит впадать в «реакционный романтизм», значит препятствовать «прогрессу». Ибо демократически организованное сообщество людей невозможно уже в силу «огромных пространств» современных государств и огромных масштабов времени их существования. Демократия, обеспечивающая полный расцвет каждой личности, возможна лишь на малом пространстве и на малом отрезке времени. Так и было в Афинах. И вместе с ними канул в Лету золотой век искусства. В современности же, согласно гегелевской логике, «идеальным» строем оказывается только иерархически-бюрократическая структура государства, опирающаяся как на свой «естественно-природный» базис на систему хозяйственных отношений «гражданского» общества, то есть на капиталистически организованную экономику... Таков единственный строй, соответствующий «высшему идеалу нравственности».
В итоге конечный результат гегелевской «революции» в понимании идеала сводится к идеализированию и обожествлению всей налично-эмпирической дряни, к рабству под видом служения идеалу.
Но история «земного воплощения» идеала не была, по счастью, закончена и здесь.
Мундир профессора Берлинского университета хотя и был несколько пошире в плечах, чем пасторский сюртук Канта, все же оказался для идеала тесноват. И не случайно. Ведь он был скроен в тех же самых мастерских, и, что еще важнее, сшит теми же самыми нитками — белыми нитками идеализма, а потому грозил разъехаться по швам при первом же резком повороте в уличной сутолоке истории. Для чтения лекций о природе идеала он еще годился. Но он никак не годился для сражения за идеал. Тут надо было искать одежду попрочнее. [115]
И как только в мире снова начала поднимать голову революционно-демократическая общественность, как только события призвали диалектику, прятавшуюся до этого в сумрачных залах университетских аудиторий, к жизни, к борьбе, на баррикады, на страницы политических газет и журналов, идеал обрел новую жизнь.
Из разреженной атмосферы горных высот спекуляции идеал надо было опустить на землю. [116]